Общественный договор
Материал для тех, кто хочет разобраться
Для читателя
Общественный договор – это теоретическая модель взаимодействия власти и общества, т.н. установленные «правила игры» для обоих субъектов этих отношений. В данной работе речь пойдет о том, как появились самые известные концепции общественного договора, что лежит в их основе, какие идеи они привнесли и что пытались до нас донести их авторы. Ниже будут изложены 5 самых известных основных концепций, без понимания которых невозможно изучения феномена общественного договора и всего, что с ним связанно. Об их авторах не будет сказано практически ничего, поскольку данный материал нет смысла превращать в биографическое произведение – основное внимание уделено теориям, их основным постулатам и наиболее полному их раскрытию.
Первые три из них в свое время совершили практически фундаментальный переворот в вопросах природы власти, а также привели к становлению классического либерализма наряду с экономическим учением А. Смита и отделением церкви от государства. Знание этих теорий и умение в них ориентироваться обязательны для того, кто изучает исторический период Нового времени, формирование первых революционных республик или же просто склоняется к либеральным политическим воззрениям
Вторые три теории помогают проследить дальнейшую эволюцию взглядов Гоббса, Локка и Руссо в более позднее время – в XX веке, в эпохе модерна и постмодерна. Эти материалы помогут разобраться в том, как общественный договор развивался в последние десятки лет, к чему это развитие его привело, а также актуален ли он в наши дни.
Общественный договор – это теоретическая модель взаимодействия власти и общества, т.н. установленные «правила игры» для обоих субъектов этих отношений. В данной работе речь пойдет о том, как появились самые известные концепции общественного договора, что лежит в их основе, какие идеи они привнесли и что пытались до нас донести их авторы. Ниже будут изложены 5 самых известных основных концепций, без понимания которых невозможно изучения феномена общественного договора и всего, что с ним связанно. Об их авторах не будет сказано практически ничего, поскольку данный материал нет смысла превращать в биографическое произведение – основное внимание уделено теориям, их основным постулатам и наиболее полному их раскрытию.
Первые три из них в свое время совершили практически фундаментальный переворот в вопросах природы власти, а также привели к становлению классического либерализма наряду с экономическим учением А. Смита и отделением церкви от государства. Знание этих теорий и умение в них ориентироваться обязательны для того, кто изучает исторический период Нового времени, формирование первых революционных республик или же просто склоняется к либеральным политическим воззрениям
Вторые три теории помогают проследить дальнейшую эволюцию взглядов Гоббса, Локка и Руссо в более позднее время – в XX веке, в эпохе модерна и постмодерна. Эти материалы помогут разобраться в том, как общественный договор развивался в последние десятки лет, к чему это развитие его привело, а также актуален ли он в наши дни.
Классические концепции
Гоббс
С одной стороны, философия Т. Гоббса не может быть названа либеральной в полном смысле слова, поскольку в ней четко прослеживается линия на оправдание абсолютной монархии и пренебрежительное отношение к благу личности в сравнении с благом государства. Но, с другой стороны, столь же ясно, что многие либеральные воззрения на социальные процессы впервые получили своё выражение именно в творчестве Т. Гоббса. Он обосновал значимость объединения в общество и целесообразность образования государства независимо от божественного провидения. Это заметный шаг к секуляризации политической философии. Т. Гоббс одним из первых высказался в защиту того, что общество и государство генетически и логически происходят от волеизъявления самостоятельных индивидов, а не появляются в результате захвата властных полномочий или социально-организующей активности Бога.
В своём центральном сочинении «Левиафан» Т. Гоббс подходит к проблеме договорного происхождения (и сущности) общественных отношений через дескрипцию природы человеческого индивида. Чтобы понять смысл объединения в единый социальный агрегат, предлагается сначала разобраться с наиболее существенными чертами элементов, из которых он будет составляться.
Человек, по Т. Гоббсу, есь чувствующее существо. «Нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально, целиком или частично, в органах ощущения» . Способности к ощущению не слишком сильны и зачастую приводят к неадекватному восприятию вещей. Перцептивные органы, мышление, воображение и память, помимо ясных идей поставляют также и смутные, перемешанные восприятия-«призраки». Кроме того, немало способствует заблуждениям использование человечеством слов языка, которые не всегда правильно соотносятся с комплексами ощущений. А, учитывая множественность воспринимающих человеческих существ, можно себе представить, сколь много у них может найтись поводов для конфликта.
Испытывая чувственное влечение к вещам, от которых можно получить удовольствие, человек в процессе удовлетворения своих побуждений может принести страдание другому. Так оказывается, что множество людей взаимно препятствуют друг другу в реализации чувственной природы. Конфликт интересов, дедуцируемый из самой природы человека, Т. Гоббс называет «естественным состоянием» человечества.
Предполагается, что, если гражданское состояние и государство в принципе может установиться, то, безусловно, на базе и в условиях состояния, которое ему исторически (и логически) предшествует. Имеется в виду как раз естественное состояние. Т. Гоббс рассуждает о нем так: «Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех». И подробнее: «Люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кроме той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удобных знаний, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна». Также отсутствует собственность, справедливость и позитивное право. Каждый имеет естественное «право на все».
Отсюда Т. Гоббс делает вывод: ради сохранения своей жизни и некоторых необходимых ему благ от внешних посягательств, каждый человек должен желать мира. И, если все заинтересованы в этом, то появляется некий общий фундамент для объединения сил индивидов. Категорическая необходимость мирного сосуществования становится первым законом гражданского общества.
Способом реализации этого закона становится договор между людьми о разграничении сфер влияния и возможностей пользования некоторыми благами (прав собственности). Люди переносят на других часть своих естесвенных прав на всё в обмен на то, что все остальные поступят также. В результате получается, что каждый закрепляет за собой определенную собственность и полномочия. Это «взаимное перенесение права есть то, что люди называют договором». Итак, общество происходит из процедуры заключения добровольного контракта между группой лиц, осознающих свою выгоду от будущего положения и потому без принуждения делающих этот шаг.
Однако, как полагает Т. Гоббс, сам по себе договор не может гарантировать каждому участнику то, что все прочие действительно будут соблюдать условия и не станут нарушать сохраненные за ним права. «Соглашение без меча лишь слова, которые не в силах гарантировать человеку безопасность». Поэтому, в договоре изначально устанавливается независимый институт, на который переносится часть прав (а именно, право на защиту собственности и право на наказание виновных), и который, не являясь выразителем интересов какой-либо из сторон, стоит словно «над» договором (не связан его статьями). Это государство, рукотворный смертный бог или Левиафан. Благодаря тому, что оно не обязано выполнять условия общественного договора, государство не благоприятствует никому. Все в отношении его равны и одинаково заинтересованы в его независимой позиции и его способностях применять силу для защиты мира в обществе.
Разумно утверждать, что граждане, желающие наилучшим образом защитить себя, скорее передадут часть своих прав на применение насилия не нескольким людям, а одному лицу. Если правителей несколько, то между ними может возникнуть борьба за власть, что, скорее всего негативно отразится на безопасности граждан. Гораздо меньше проблем, как считает Т. Гоббс, может принести монархическая форма правления, при которой властвующее лицо всегда согласно с самим собой. В этом смысле, государство, которое граждане приглашают для охраны общественного договора, есть, при правильном рассмотрении, одно лицо – суверен. Так получает рациональное обоснование абсолютная монархия как наилучшее политическое устройство.
По Т. Гоббсу, суверен не просто обладает верховной властью, он и есть власть. Компетенция государя не ограничена ничем, поскольку он никогда не заключал договора со своими гражданами. Он имеет естественное право на всё. При этом любые действия с его стороны нельзя назвать злоупотреблениями. Нет критерия превышения полномочий. Граждане не имеют права бунтовать и возмущаться, так как они сами выразили желание иметь над собой грозную силу. Общественный договор нельзя разорвать, а монарха сместить, опять же в силу того, что с государем никто ни о чём не договаривался. Суверен может, ради сохранения мира, регулировать свободу слова, распределять собственность и титулы. Он обладает правом суда, правами объявления войны и мира. Список функций, которые, в соответствии с мнением Т. Гоббса, можно приписать государству, потенциально бесконечен.
В своём центральном сочинении «Левиафан» Т. Гоббс подходит к проблеме договорного происхождения (и сущности) общественных отношений через дескрипцию природы человеческого индивида. Чтобы понять смысл объединения в единый социальный агрегат, предлагается сначала разобраться с наиболее существенными чертами элементов, из которых он будет составляться.
Человек, по Т. Гоббсу, есь чувствующее существо. «Нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально, целиком или частично, в органах ощущения» . Способности к ощущению не слишком сильны и зачастую приводят к неадекватному восприятию вещей. Перцептивные органы, мышление, воображение и память, помимо ясных идей поставляют также и смутные, перемешанные восприятия-«призраки». Кроме того, немало способствует заблуждениям использование человечеством слов языка, которые не всегда правильно соотносятся с комплексами ощущений. А, учитывая множественность воспринимающих человеческих существ, можно себе представить, сколь много у них может найтись поводов для конфликта.
Испытывая чувственное влечение к вещам, от которых можно получить удовольствие, человек в процессе удовлетворения своих побуждений может принести страдание другому. Так оказывается, что множество людей взаимно препятствуют друг другу в реализации чувственной природы. Конфликт интересов, дедуцируемый из самой природы человека, Т. Гоббс называет «естественным состоянием» человечества.
Предполагается, что, если гражданское состояние и государство в принципе может установиться, то, безусловно, на базе и в условиях состояния, которое ему исторически (и логически) предшествует. Имеется в виду как раз естественное состояние. Т. Гоббс рассуждает о нем так: «Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех». И подробнее: «Люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кроме той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удобных знаний, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна». Также отсутствует собственность, справедливость и позитивное право. Каждый имеет естественное «право на все».
Отсюда Т. Гоббс делает вывод: ради сохранения своей жизни и некоторых необходимых ему благ от внешних посягательств, каждый человек должен желать мира. И, если все заинтересованы в этом, то появляется некий общий фундамент для объединения сил индивидов. Категорическая необходимость мирного сосуществования становится первым законом гражданского общества.
Способом реализации этого закона становится договор между людьми о разграничении сфер влияния и возможностей пользования некоторыми благами (прав собственности). Люди переносят на других часть своих естесвенных прав на всё в обмен на то, что все остальные поступят также. В результате получается, что каждый закрепляет за собой определенную собственность и полномочия. Это «взаимное перенесение права есть то, что люди называют договором». Итак, общество происходит из процедуры заключения добровольного контракта между группой лиц, осознающих свою выгоду от будущего положения и потому без принуждения делающих этот шаг.
Однако, как полагает Т. Гоббс, сам по себе договор не может гарантировать каждому участнику то, что все прочие действительно будут соблюдать условия и не станут нарушать сохраненные за ним права. «Соглашение без меча лишь слова, которые не в силах гарантировать человеку безопасность». Поэтому, в договоре изначально устанавливается независимый институт, на который переносится часть прав (а именно, право на защиту собственности и право на наказание виновных), и который, не являясь выразителем интересов какой-либо из сторон, стоит словно «над» договором (не связан его статьями). Это государство, рукотворный смертный бог или Левиафан. Благодаря тому, что оно не обязано выполнять условия общественного договора, государство не благоприятствует никому. Все в отношении его равны и одинаково заинтересованы в его независимой позиции и его способностях применять силу для защиты мира в обществе.
Разумно утверждать, что граждане, желающие наилучшим образом защитить себя, скорее передадут часть своих прав на применение насилия не нескольким людям, а одному лицу. Если правителей несколько, то между ними может возникнуть борьба за власть, что, скорее всего негативно отразится на безопасности граждан. Гораздо меньше проблем, как считает Т. Гоббс, может принести монархическая форма правления, при которой властвующее лицо всегда согласно с самим собой. В этом смысле, государство, которое граждане приглашают для охраны общественного договора, есть, при правильном рассмотрении, одно лицо – суверен. Так получает рациональное обоснование абсолютная монархия как наилучшее политическое устройство.
По Т. Гоббсу, суверен не просто обладает верховной властью, он и есть власть. Компетенция государя не ограничена ничем, поскольку он никогда не заключал договора со своими гражданами. Он имеет естественное право на всё. При этом любые действия с его стороны нельзя назвать злоупотреблениями. Нет критерия превышения полномочий. Граждане не имеют права бунтовать и возмущаться, так как они сами выразили желание иметь над собой грозную силу. Общественный договор нельзя разорвать, а монарха сместить, опять же в силу того, что с государем никто ни о чём не договаривался. Суверен может, ради сохранения мира, регулировать свободу слова, распределять собственность и титулы. Он обладает правом суда, правами объявления войны и мира. Список функций, которые, в соответствии с мнением Т. Гоббса, можно приписать государству, потенциально бесконечен.
Самая простая схема
Руссо
Самое главное сочинение Жан-Жака Руссо – «Общественный договор» («Contrat social»), в основе своей чисто рационалистический и весьма абстрактный труд. «Человек, по Руссо, рождается свободным, но везде он в цепях», а общественный порядок «не дается природой, следовательно, он основан на соглашениях (conventions), потому весь вопрос в том, чтобы узнать, в чем заключаются эти соглашения». Свободнорожденный человек, из отвлеченного понятия о котором исходит Руссо, является у него вместе с тем существом преимущественно разумным. Руссо не принимает в расчет ни тех отношений зависимости человека от других людей, среди которых человек является в свет, ни того обстоятельства, что далеко не все люди поступают разумно, и что вообще не один разум руководит человеческими поступками. Как раз самые ревностные преследователи Руссо действовали впоследствии, руководимые прежде всего страстью. Взяв за исходный пункт своего рассуждения в «Общественном договоре» отвлеченную личность, а не реального человека, Жан-Жак Руссо думал, однако, что он берет людей таковыми, каковы они на самом деле, и даже особенно ставил это на вид читателю. И вот у него люди, эти вполне разумные существа, совершенно сознательно и вполне добровольно вступают в союз на основании взаимного договора, а затем и государство является именно таким союзом, имеющим своею целью общее благо, которое, по Руссо, не только для всех одинаково, но и всеми одинаково понимается.
В силу изначального договора у него создается верховная власть народа (souveraineté du peuple), и хотя опять-таки в учении о народовластии Руссо имел многочисленных предшественников в средние века и в новое время, тем не менее и тут он особенным образом понял идею, превратив прежнее, чисто идеальное представление прямо в какую-то реальную величину, так как у него вся совокупность народа является как бы единственной инстанцией, определяющею всю будущую деятельность государства. Содержание самого общественного договора у Руссо выражено в следующих словах: нужно «найти такую форму соединения (association), которая защищала бы и охраняла всею своею общею силою личность и имущество каждого своего члена (associé) и посредством которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, лишь самому себе, оставаясь столь же свободным, как и раньше». Другими словами, по Руссо, человек должен был бы сохранять в государстве всю свободу естественного состояния. Но в той же самой главе, где дана приведенная формула, основным условием общественного договора считается «совершенное отчуждение личностью всех своих прав в пользу общества» (l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté) и притом отчуждение без каких бы то ни было ограничений (sans réserve), ибо, поясняет Руссо, «если бы у частных лиц оставались какие-либо права, то ввиду отсутствия высшего трибунала, который мог бы разрешать споры между ним и обществом (le public), каждый, будучи некоторым образом собственным судьей, скоро вообразил бы себя и судьей всех». Руссо думает, впрочем, что «когда каждый отдает себя в распоряжение всех, он в сущности не отдается никому». «Раз, – рассуждает он еще, – носитель верховной власти (le souverain, т. е. народ) состоит из образующих его частных лиц, у него нет и быть не может интересов, противоположных их интересам, и, следовательно, нет надобности, чтобы верховная власть была обставлена гарантиями со стороны подданных, ибо невозможно, чтобы тело захотело вредить всем своим членам» (как будто большинство не могло бы нарушать прав меньшинства или единичных лиц). Во всяком случае, индивидуальная свобода в государстве Руссо ничем не обеспечивается.
Далее, прежние учения о народовластии оставляли за правительством самостоятельное значение, но в «Общественном договоре» Руссо суверенитет народа понимается не в смысле первичной основы власти, а в смысле самого непосредственного ею пользования, и державный народ, как совокупность всей массы граждан, проявляет непосредственно законодательную власть. У Гоббса народ передает абсолютную власть над собою правительству, у Руссо, наоборот, эта власть сохраняется всецело за народом. По определению, данному в «Общественном договоре», эта верховная власть народа неотчуждаема, неделима, непогрешима, неограничима. Вот как сам Жан-Жак Руссо говорит обо всем этом. «Верховная власть, будучи лишь проявлением (exercice) общей воли, никогда не может быть отчуждаема, и государь (le souverain, т. е. носитель верховной власти, а у Руссо это весь народ), как существо собирательное (être collectif), может быть представляем только самим собою: власть (le pouvoir) может еще передаваться, но не воля... По той же причине, по которой верховная власть неотчуждаема, она и неделима, ибо воля есть, общая или её нет, т. е. она есть воля всего народа или его части». Руссо делает здесь примечание такого рода: «для того, чтобы воля была общей, нет надобности, чтобы она всегда была единодушна, но необходимо, чтобы все голоса были сосчитаны»; но вообще определение «общей воли» у него очень неясно, и если он отличает ее (la volonté générale) от «воли всех» (la volonté de tous), то он все-таки не показывает, каким образом может возникнуть общая воля там, где существуют разные классы, партии и частные интересы, образующие неодинаковые воли. «Общая воля, – продолжает он в «Общественном договоре» далее, – всегда права и постоянно стремится к общественной пользе... Народ всегда желает собственного блага; но не всегда его видит: никогда нельзя подкупить народ, но его можно обмануть, и лишь тогда кажется, будто он желает того, что дурно». «Как природа, наконец, дает каждому человеку абсолютную власть над всеми его членами, общественный договор (le pacte social) дает политическому телу над всеми его членами такую же абсолютную власть, и она-то, направляемая общею волею, носит название верховной власти».
Одним словом, государственный абсолютизм, отдаваемый Гоббсом правительству, «Общественный договор» Руссо переносит на весь народ: свободу народа он смешивает с властью народа, а равенство понимает не в смысле равенства гражданских прав, а в смысле равенства во власти.Целью равенства у Руссо является не пользование личною свободою и индивидуальными способностями, а непосредственное участие во власти, т. е. лишь бы все были равны во власти, а там пускай последняя будет беспредельна, как бы Руссо при этом ни оговаривался в том смысле, что общая воля, руководимая разумом, и потребовать не может, чтобы на личность были наложены бесполезные цепи.
Между прочим, в самом конце «Общественного договора» есть глава о гражданской религии. Руссо находит, что христианство, отвлекая сердца людей от всего земного, отрывает их и от государства, – и потому считает необходимым, чтобы верховная власть установила чисто гражданское исповедание веры с правом изгнания из государства всякого, кто не станет верить в её заповеди, как человека непригодного к общественной жизни, а «если, – продолжает Руссо, – кто-либо, публично признав догмат этой религии, будет вести себя так», как будто он в них не верит, то он должен быть наказан смертью, как человек, который совершил величайшее преступление, солгав перед законами». В число догматов этой религии (вера в Бога, в бессмертие души, в загробное воздаяние и в святость общественного договора и законов) Руссо включает запрещение нетерпимости, и тот, кто верит, что вне церкви нет спасения, по его мнению, должен быть прямо изгоняем из государства. Враг нетерпимости, Руссо не замечает, как он сам вводит нетерпимость в свою государственную религию. Таким образом, его политическая теория, проповедуя самое широкое народовластие, соединяет последнее, в сущности, с отрицанием индивидуальной свободы.
Прибавим еще, что Руссо не отрицал монархию или королевскую власть, как государственную форму, в некоторых случаях даже предпочитая ее коллективному правительству, но его монарх – не государь (souverain), а республиканский сановник, хотя и называющийся королем. Подобная королевская власть с верховенством суверенного народа существовала в Польше, где роль такого народа играла, как известно, шляхта. По просьбе поляков Руссо написал об их государственном устройстве особое сочинение («Considérations sur le gouvernement de Pologne»), в котором он вообще выразил сочувствие польской республиканской монархии. Во Франции эта идея равным образом сделалась популярной, и если конституция 1791 года заимствовала у Монтескье представительную систему и принцип разделения властей, то в самое основание этой конституции все-таки были положены идеи «Общественного договора» Руссо о народовластии и о монархии в смысле учреждения, существующего лишь для исполнения воли суверенного народа..
В силу изначального договора у него создается верховная власть народа (souveraineté du peuple), и хотя опять-таки в учении о народовластии Руссо имел многочисленных предшественников в средние века и в новое время, тем не менее и тут он особенным образом понял идею, превратив прежнее, чисто идеальное представление прямо в какую-то реальную величину, так как у него вся совокупность народа является как бы единственной инстанцией, определяющею всю будущую деятельность государства. Содержание самого общественного договора у Руссо выражено в следующих словах: нужно «найти такую форму соединения (association), которая защищала бы и охраняла всею своею общею силою личность и имущество каждого своего члена (associé) и посредством которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, лишь самому себе, оставаясь столь же свободным, как и раньше». Другими словами, по Руссо, человек должен был бы сохранять в государстве всю свободу естественного состояния. Но в той же самой главе, где дана приведенная формула, основным условием общественного договора считается «совершенное отчуждение личностью всех своих прав в пользу общества» (l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté) и притом отчуждение без каких бы то ни было ограничений (sans réserve), ибо, поясняет Руссо, «если бы у частных лиц оставались какие-либо права, то ввиду отсутствия высшего трибунала, который мог бы разрешать споры между ним и обществом (le public), каждый, будучи некоторым образом собственным судьей, скоро вообразил бы себя и судьей всех». Руссо думает, впрочем, что «когда каждый отдает себя в распоряжение всех, он в сущности не отдается никому». «Раз, – рассуждает он еще, – носитель верховной власти (le souverain, т. е. народ) состоит из образующих его частных лиц, у него нет и быть не может интересов, противоположных их интересам, и, следовательно, нет надобности, чтобы верховная власть была обставлена гарантиями со стороны подданных, ибо невозможно, чтобы тело захотело вредить всем своим членам» (как будто большинство не могло бы нарушать прав меньшинства или единичных лиц). Во всяком случае, индивидуальная свобода в государстве Руссо ничем не обеспечивается.
Далее, прежние учения о народовластии оставляли за правительством самостоятельное значение, но в «Общественном договоре» Руссо суверенитет народа понимается не в смысле первичной основы власти, а в смысле самого непосредственного ею пользования, и державный народ, как совокупность всей массы граждан, проявляет непосредственно законодательную власть. У Гоббса народ передает абсолютную власть над собою правительству, у Руссо, наоборот, эта власть сохраняется всецело за народом. По определению, данному в «Общественном договоре», эта верховная власть народа неотчуждаема, неделима, непогрешима, неограничима. Вот как сам Жан-Жак Руссо говорит обо всем этом. «Верховная власть, будучи лишь проявлением (exercice) общей воли, никогда не может быть отчуждаема, и государь (le souverain, т. е. носитель верховной власти, а у Руссо это весь народ), как существо собирательное (être collectif), может быть представляем только самим собою: власть (le pouvoir) может еще передаваться, но не воля... По той же причине, по которой верховная власть неотчуждаема, она и неделима, ибо воля есть, общая или её нет, т. е. она есть воля всего народа или его части». Руссо делает здесь примечание такого рода: «для того, чтобы воля была общей, нет надобности, чтобы она всегда была единодушна, но необходимо, чтобы все голоса были сосчитаны»; но вообще определение «общей воли» у него очень неясно, и если он отличает ее (la volonté générale) от «воли всех» (la volonté de tous), то он все-таки не показывает, каким образом может возникнуть общая воля там, где существуют разные классы, партии и частные интересы, образующие неодинаковые воли. «Общая воля, – продолжает он в «Общественном договоре» далее, – всегда права и постоянно стремится к общественной пользе... Народ всегда желает собственного блага; но не всегда его видит: никогда нельзя подкупить народ, но его можно обмануть, и лишь тогда кажется, будто он желает того, что дурно». «Как природа, наконец, дает каждому человеку абсолютную власть над всеми его членами, общественный договор (le pacte social) дает политическому телу над всеми его членами такую же абсолютную власть, и она-то, направляемая общею волею, носит название верховной власти».
Одним словом, государственный абсолютизм, отдаваемый Гоббсом правительству, «Общественный договор» Руссо переносит на весь народ: свободу народа он смешивает с властью народа, а равенство понимает не в смысле равенства гражданских прав, а в смысле равенства во власти.Целью равенства у Руссо является не пользование личною свободою и индивидуальными способностями, а непосредственное участие во власти, т. е. лишь бы все были равны во власти, а там пускай последняя будет беспредельна, как бы Руссо при этом ни оговаривался в том смысле, что общая воля, руководимая разумом, и потребовать не может, чтобы на личность были наложены бесполезные цепи.
Между прочим, в самом конце «Общественного договора» есть глава о гражданской религии. Руссо находит, что христианство, отвлекая сердца людей от всего земного, отрывает их и от государства, – и потому считает необходимым, чтобы верховная власть установила чисто гражданское исповедание веры с правом изгнания из государства всякого, кто не станет верить в её заповеди, как человека непригодного к общественной жизни, а «если, – продолжает Руссо, – кто-либо, публично признав догмат этой религии, будет вести себя так», как будто он в них не верит, то он должен быть наказан смертью, как человек, который совершил величайшее преступление, солгав перед законами». В число догматов этой религии (вера в Бога, в бессмертие души, в загробное воздаяние и в святость общественного договора и законов) Руссо включает запрещение нетерпимости, и тот, кто верит, что вне церкви нет спасения, по его мнению, должен быть прямо изгоняем из государства. Враг нетерпимости, Руссо не замечает, как он сам вводит нетерпимость в свою государственную религию. Таким образом, его политическая теория, проповедуя самое широкое народовластие, соединяет последнее, в сущности, с отрицанием индивидуальной свободы.
Прибавим еще, что Руссо не отрицал монархию или королевскую власть, как государственную форму, в некоторых случаях даже предпочитая ее коллективному правительству, но его монарх – не государь (souverain), а республиканский сановник, хотя и называющийся королем. Подобная королевская власть с верховенством суверенного народа существовала в Польше, где роль такого народа играла, как известно, шляхта. По просьбе поляков Руссо написал об их государственном устройстве особое сочинение («Considérations sur le gouvernement de Pologne»), в котором он вообще выразил сочувствие польской республиканской монархии. Во Франции эта идея равным образом сделалась популярной, и если конституция 1791 года заимствовала у Монтескье представительную систему и принцип разделения властей, то в самое основание этой конституции все-таки были положены идеи «Общественного договора» Руссо о народовластии и о монархии в смысле учреждения, существующего лишь для исполнения воли суверенного народа..
Локк
Пытаясь найти критерии для оценки политической практики, Д. Локк, вслед за Т. Гоббсом, обращает внимание на истоки общественого состояния человека. Для этого он также производит теоретическую реконструкцию естественного состояния, однако, его анализ даёт оригинальные результаты.
В видении Д. Локка естественное состояние людей - это «состояние полной свободы в отношении их действий и в отношении распоряжения своим имуществом и личностью в соответствии с тем, что они считают подходящим для себя в границах закона природы, не испрашивая разрешения у какого-либо другого лица и не завися от чьей-либо воли. Это также состояние равенства, при котором вся власть и вся юрисдикция являются взаимными, - никто не имеет больше другого». Следует заметить, что Д. Локк находит вполне совместимыми с естесвенным состоянием как право вообще, так и право собственности особенно. Люди благодаря своим природным способностям самостоятельно доходят до признания идей «справедливого» и «несправедливого», «честного» и «бесчестного», «моего» и «твоего». Хотя такое понимание не является врожденным, его без труда можно достичь всякому человеку, руководствуясь только «естественным светом разума» и опытом.
Тем самым в изначальном положении человечества уже присутствует некий моральный закон, архетип права. Он гласит: «Поскольку все люди равны и независимы, постольку ни один из них не должен наносить ущерб жизни, здоровью, свободе или собственности другого; ибо все люди созданы одним всемогущим и бесконечно мудрым творцом; все они слуги одного верховного владыки, посланы в мир по его приказу и по его делу; они являются собственностью того, кто их сотворил, и существование их должно продолжаться до тех пор, пока ему, а не им, это угодно». Последнее оправдание принципы морали и права находят в общем для всех людей религиозном чувстве и уважении в другом человеке образа божия. Эта же идея нашла отражение в Конституции США, где равенство граждан объясняется именно тождеством индивидов в качестве творений, правомочных искать свои пути к счастью.
Наличие единого для всех морального закона обусловливает появление целого ряда неотъемлемых прав человека. В первую очередь, это права на жизнь, свободу и собственность, а также на защиту своих прав. По факту наличия в уме нравственных императивов, «каждый человек имеет право наказать преступника и быть исполнителем закона природы».
Но самое фундаментальное право человека – это право иметь собственность. Д. Локк обосновывает его ссылкой на безусловную ценность личности: «Каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому счету принадлежат ему. Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто, принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей собственностью». Собственность столь же священна, сколь значим статус личности как образа Бога.
Естественное состояние, по Д. Локку, более или менее упорядочено и пригодно для жизни. Оно не есть состояние войны, когда «человек человеку –волк» (о чём говорил Т. Гоббс). Скорее, его можно квалифицировать через термин «нейтральность». Люди просто не имеют общих институтов, каждый самодостаточен, а то, каким образом конкретно складываются отношения (в русле конфликта или сотрудничества), зависит от обстоятельств, опыта. Случайные схемы взаимодействия нельзя возвести в общий принцип.
Как из такого естественного состояния могло явиться сложно организованное общество и государство, и, главное, зачем в них могла возникнуть необходимость? Ответ состоит в том, что диспозицию мирной нейтральности люди пожелают закрепить и защитить от случайных прихотей отдельных лиц. Проще говоря, всеми ясно будет осознаваться потребность в защите собственности (личности и того, чем она владеет). Это ведущий мотив для объединения в общество. Способом же реализации мотива, по мысли Д. Локка, может выступить только договор.
Социальный контракт является добровольным и взаимным согласием граждан закрепить друг за другом определенные права собственности и установить общий закон для разрешения возможных имущественных споров. Естественная свобода ограничивается, сужается, и становится гражданской - свободой в границах свободы другого. Но, вместе с тем, закон качественно увеличивает свободу человека: «Целью закона является не уничтожение и не ограничение, а сохранение и расширение свободы. Ведь во всех состояниях живых существ, способных иметь законы, там, где нет закона, нет и свободы. Ведь свобода состоит в том, чтобы не испытывать ограничения и насилия со стороны другого, а это не может быть осуществлено там, где нет закона».
Установление гражданского права в процессе заключения общественного договора предполагает также и учреждение судебной инстанции, которая должна применять закон и производить легитимные вердикты по конкретным неоднозначным правовым коллизиям. Это уже первый институт государства, единственная функция которого состоит в охране соглашений между людьми.
Однако, более фундаментальное значение имеет, по Д. Локку, всё же не судебная власть, а законодательная, поскольку сама процедура принятия общественного договора и первых законов – это уже манифестация законодательной власти. Исконный смысл государства – быть местом обсуждения общих правил взаимодействия между индивидами (законов), т.е. быть парламентом.
Законы в парламенте не могут приниматься единогласно. Общее согласие характерно только для общественного договора – соглашения о том, что людям вообще следует объединиться и каким-то образом вместе охранять собственность друг друга. Когда дело доходит до частных вопросов – что и кому должно принадлежать и как надлежит обмениваться товарами – здесь начинаются разногласия. И решение по установлению закона можно принять только по правилу большинства голосов (граждан или их полномочных представителей в парламенте). Д. Локк сознаёт моральную слабость претензий мажоритарной демократии на роль принципа принятия законодательства. Тем не менее, он полагает, что иного пути попросту нет и предлагает следующее (не очень убедительное) обоснование. «Когда какое-либо число людей таким образом согласились создать общество или государство, то они тем самым уже объединены и составляют единый политический организм, в котором большинство имеет право действовать и решать за остальных».
Концепция общественного договора позволяет Д. Локку вывести следующие далеко идущие выводы. 1) Единственной приемлемой формой правления является республика (или конституционная монархия, более походящая на республику). 2) Функции государства четко определены. К ним относятся суд, исполнение наказаний, законотворчество и защита от внешних врагов. С этими делами справляются три ветви власти: законодательная, исполнительная (в современном смысле, точнее - судебная) и федеративная (внешнеполитическая). Они строго отделены друг от друга, что позволяет не допускать чрезмерной концентрации власти, охраняет частную свободу. Идеал Д. Локка – ограниченное государство как агентство защиты прав человека. 3) Какие-либо изменения в законодательство можно внести только путем демократических дебатов, что позволяет согласовывать позиции и вырабатывать правила наиболее приемлемые для всех граждан. Ограниченное конституцией и институтами демократии государство в наименьшей степени может ущемить права человека и лучше всего способствует Общему Благу.
В видении Д. Локка естественное состояние людей - это «состояние полной свободы в отношении их действий и в отношении распоряжения своим имуществом и личностью в соответствии с тем, что они считают подходящим для себя в границах закона природы, не испрашивая разрешения у какого-либо другого лица и не завися от чьей-либо воли. Это также состояние равенства, при котором вся власть и вся юрисдикция являются взаимными, - никто не имеет больше другого». Следует заметить, что Д. Локк находит вполне совместимыми с естесвенным состоянием как право вообще, так и право собственности особенно. Люди благодаря своим природным способностям самостоятельно доходят до признания идей «справедливого» и «несправедливого», «честного» и «бесчестного», «моего» и «твоего». Хотя такое понимание не является врожденным, его без труда можно достичь всякому человеку, руководствуясь только «естественным светом разума» и опытом.
Тем самым в изначальном положении человечества уже присутствует некий моральный закон, архетип права. Он гласит: «Поскольку все люди равны и независимы, постольку ни один из них не должен наносить ущерб жизни, здоровью, свободе или собственности другого; ибо все люди созданы одним всемогущим и бесконечно мудрым творцом; все они слуги одного верховного владыки, посланы в мир по его приказу и по его делу; они являются собственностью того, кто их сотворил, и существование их должно продолжаться до тех пор, пока ему, а не им, это угодно». Последнее оправдание принципы морали и права находят в общем для всех людей религиозном чувстве и уважении в другом человеке образа божия. Эта же идея нашла отражение в Конституции США, где равенство граждан объясняется именно тождеством индивидов в качестве творений, правомочных искать свои пути к счастью.
Наличие единого для всех морального закона обусловливает появление целого ряда неотъемлемых прав человека. В первую очередь, это права на жизнь, свободу и собственность, а также на защиту своих прав. По факту наличия в уме нравственных императивов, «каждый человек имеет право наказать преступника и быть исполнителем закона природы».
Но самое фундаментальное право человека – это право иметь собственность. Д. Локк обосновывает его ссылкой на безусловную ценность личности: «Каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому счету принадлежат ему. Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто, принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей собственностью». Собственность столь же священна, сколь значим статус личности как образа Бога.
Естественное состояние, по Д. Локку, более или менее упорядочено и пригодно для жизни. Оно не есть состояние войны, когда «человек человеку –волк» (о чём говорил Т. Гоббс). Скорее, его можно квалифицировать через термин «нейтральность». Люди просто не имеют общих институтов, каждый самодостаточен, а то, каким образом конкретно складываются отношения (в русле конфликта или сотрудничества), зависит от обстоятельств, опыта. Случайные схемы взаимодействия нельзя возвести в общий принцип.
Как из такого естественного состояния могло явиться сложно организованное общество и государство, и, главное, зачем в них могла возникнуть необходимость? Ответ состоит в том, что диспозицию мирной нейтральности люди пожелают закрепить и защитить от случайных прихотей отдельных лиц. Проще говоря, всеми ясно будет осознаваться потребность в защите собственности (личности и того, чем она владеет). Это ведущий мотив для объединения в общество. Способом же реализации мотива, по мысли Д. Локка, может выступить только договор.
Социальный контракт является добровольным и взаимным согласием граждан закрепить друг за другом определенные права собственности и установить общий закон для разрешения возможных имущественных споров. Естественная свобода ограничивается, сужается, и становится гражданской - свободой в границах свободы другого. Но, вместе с тем, закон качественно увеличивает свободу человека: «Целью закона является не уничтожение и не ограничение, а сохранение и расширение свободы. Ведь во всех состояниях живых существ, способных иметь законы, там, где нет закона, нет и свободы. Ведь свобода состоит в том, чтобы не испытывать ограничения и насилия со стороны другого, а это не может быть осуществлено там, где нет закона».
Установление гражданского права в процессе заключения общественного договора предполагает также и учреждение судебной инстанции, которая должна применять закон и производить легитимные вердикты по конкретным неоднозначным правовым коллизиям. Это уже первый институт государства, единственная функция которого состоит в охране соглашений между людьми.
Однако, более фундаментальное значение имеет, по Д. Локку, всё же не судебная власть, а законодательная, поскольку сама процедура принятия общественного договора и первых законов – это уже манифестация законодательной власти. Исконный смысл государства – быть местом обсуждения общих правил взаимодействия между индивидами (законов), т.е. быть парламентом.
Законы в парламенте не могут приниматься единогласно. Общее согласие характерно только для общественного договора – соглашения о том, что людям вообще следует объединиться и каким-то образом вместе охранять собственность друг друга. Когда дело доходит до частных вопросов – что и кому должно принадлежать и как надлежит обмениваться товарами – здесь начинаются разногласия. И решение по установлению закона можно принять только по правилу большинства голосов (граждан или их полномочных представителей в парламенте). Д. Локк сознаёт моральную слабость претензий мажоритарной демократии на роль принципа принятия законодательства. Тем не менее, он полагает, что иного пути попросту нет и предлагает следующее (не очень убедительное) обоснование. «Когда какое-либо число людей таким образом согласились создать общество или государство, то они тем самым уже объединены и составляют единый политический организм, в котором большинство имеет право действовать и решать за остальных».
Концепция общественного договора позволяет Д. Локку вывести следующие далеко идущие выводы. 1) Единственной приемлемой формой правления является республика (или конституционная монархия, более походящая на республику). 2) Функции государства четко определены. К ним относятся суд, исполнение наказаний, законотворчество и защита от внешних врагов. С этими делами справляются три ветви власти: законодательная, исполнительная (в современном смысле, точнее - судебная) и федеративная (внешнеполитическая). Они строго отделены друг от друга, что позволяет не допускать чрезмерной концентрации власти, охраняет частную свободу. Идеал Д. Локка – ограниченное государство как агентство защиты прав человека. 3) Какие-либо изменения в законодательство можно внести только путем демократических дебатов, что позволяет согласовывать позиции и вырабатывать правила наиболее приемлемые для всех граждан. Ограниченное конституцией и институтами демократии государство в наименьшей степени может ущемить права человека и лучше всего способствует Общему Благу.
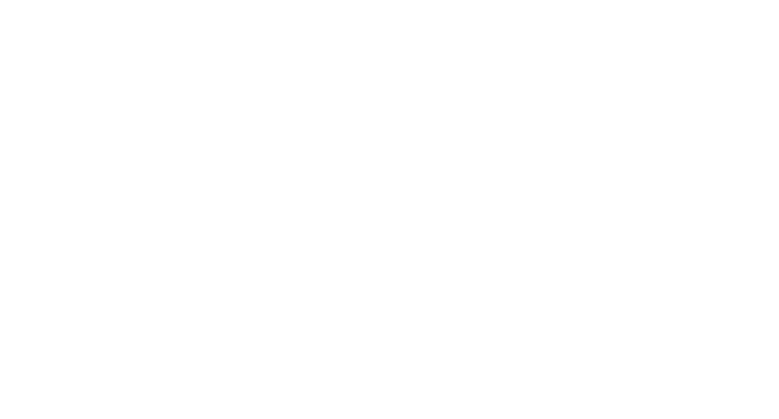
Концепции XX века
Бьюккенен, Таллок и Олсон
Во второй половине XX века стали появляться исследования на стыке математической статистики, экономики, политологии и социальной философии, занятые изучением проблем совместных действий индивидов в обществе. Пионерные разработки здесь принадлежат К. Эрроу, показавшему, что неупорядоченное целерациональное поведение индивидов приводит к выбору наименее приемлемого для всех людей варианта координации поведения, а именно к диктатуре одного лица или узкой группы лиц. Отсюда, по видимости, можно сделать неутешительный вывод о репрессивной природе общества.
Однако, несколько позже М. Олсон, в принципе соглашаясь с выводами своего предшественника, указал, что этот вывод верен только при условии, что не существует никаких правил принятия решений, которые бы априорно ограничивали количество вариантов выбора так, чтобы они не приводили к насилию над человеком. Иными словами, люди закономерно выбирают диктатуру тогда, когда отсутствует изначальный общественный договор между ними. Этот договор тоже является принуждением, однако таким, которое одинаково для всех, и потому не является приватным насилием. Соглашение призвано организовать всех индивидов к совместным действиям, выгодным для каждого. Оно характеризует не только правила, устанавливаемые для общества в целом, но также правила спонтанно формирующихся ассоциаций и групп (профсоюзов, семей, клубов). Можно сказать, что люди на протяжении жизни постоянно заключают, перезаключают и пролонгируют множество общественых договоров, когда они вступают в члены какого-нибудь сообщества.
Встают вопросы, почему индивиды выберут некое самоограничение добровольно, почему заключается соглашение (а не сохраняется рассогласованность) и каково должно быть его содержание. Так возродился интерес к либеральной концепции общественного договора в рамках научного направления конституционной экономики, рассматривающей проблемы выбора конституции людьми, связанными хозяйственными отношениями труда, производства, обмена и т.д.
Основоположником этой дисциплины является Д. Бьюкенен (в тесном сотрудничестве с Г. Таллоком). При её конструировании он руководствуется несколькими методологическим предпосылками, сводящимися к принципу «методологического индивидуализма». Это попытка «свести все проблемы политической организации к проблеме выбора индивида между различными альтернативами. Его «логика выбора» становится предметом анализа, и нет необходимости рассматривать конечные цели индивида или критерии, которыми он руководствуется». В самом деле, слабым местом многих контракторианских теорий были необоснованные гипотезы о мотивах человека, которые казались то сугубо моральными, то грубо-эгоистическими, то импульсивными и неопределенными. Д. Бьюкенен элегантно выходит из сложившегося затруднения за счет абстрагирования от целей и побуждений индивидов, утверждая только, что каковы бы они ни были, они у каждого есть и он им максимально следует. Вырисовывается модель «экономического человека», утверждающая, что «люди в действительности стремятся максимизировать индивидуальные полезности, когда участвуют в процессе принятия политических решений, и что индивидуальные функции полезности различаются».
Эти индивиды в «естественном состоянии» могут то сотрудничать (когда их цели совпадают), то враждовать (когда функции полезности находятся в обратно-пропорциональной зависимости); это не столь важно. Проблема в том, что любое взаимодействие несет с собой издержки полезности (сотрудничество отнимает силы и время для того, чтобы договориться, а вражда может отнять и материальные блага). И вот, люди со множеством различных целей пожелают, думает Д. Бьюкенен, минимизировать издержки принятия решений и издержки столкновения интересов. Все сочтут нужным выбрать коллективный орган, который будет обеспечивать каждого теми благами, для получения которых надо было бы договариваться со множеством людей (напр., строительство маяка), а также будет сдерживать конфликтные устремления
Тем самым, люди согласятся ограничить себя с помощью государства, которому передадут очень определённые полномочия. Оно занимается тем, что нельзя сделать в одиночку (напр., вершить суд) и что требует значительных организационных затрат (напр., формирование армии и полиции). Общественный договор – это, по сути, конституция государства, где прописана сфера его деятельности.
Учение Д. Бьюкенена о конституции весьма оригинально. Конституционный выбор в его видении проходит две ступени:
На первой ступени («конституционная стадия») между людьми (вне зависимости от их числа и степени имущественного неравенства) заключается «соглашение о распределении прав, которое в себе несет дополнительное соглашение о том, что индивиды будут действовать не нарушая условий. Таким образом... стороны могут уменьшить свои личные усилия по захвату и защите». Образуется общество без государства, но уже с некоторой конституцией (которая поэтому логически предшествует государству). Заключив этот договор, индивиды скоро поймут, что вероятность его нарушений очень велика. Для защиты системы распределения прав и обязанностей организуется государство, третейский судья, призванный обеспечивать status quo, не допускать насильственного отъёма прав, блюсти добровольность и обязательность частных соглашений. Д. Бьюкенен называет такую модель «государством защищающим», руководствующимся принципом нейтральности по отношению ко всем заинтересованным сторонам. Это наименее обременительная, но наиболее общеполезная разновидность функционирования коллективного органа.
Вторая ступень общественного договора носит название «постконституционной». Гражданское общество тут продолжает наращивать индивидуальную полезность каждого индивида за счёт добровольных обменов благами или правомочиями. Государство же начинает интенсивно производить законы и расширять свои полномочия за счёт того, что индивиды передают в его ведении вопросы, которые сложно решить без централизованной организации. Нарождается «государство производящее», занимающееся производством общественных благ, число и ассортимент которых принципиально неограничены (от охраны границ до строительства систем канализации и осуществления цензуры печатных органов). Оно должно повышать индивидуальную полезность граждан. но это происходит не всегда.
Д. Бьюкенен разворачивает детализированную и искусную критику расширенного государства, появляющегося на постконституционной стадии. (1) Оно легко может покуситься на status quo, конституционный договор, лишив своих граждан возможности заключать контракты по своей воле (напр., поставляя блага на неконкурентной основе, как в случае госмонополий). Постконституционный договор заключается по принуждению, и гражданин не в праве выйти из него. 2) Государство производящее управляется не правилом единогласия (как государство защищающее, выгодное всем), а правилом большинства. В результате возникают коалиции, практикуется лоббизм частных интересов на государственном уровне, производство дискриминационных законов, а значит нарушение коституционного договора. 3) Возрастают издержки (налоги и ограничения в правах), связанные с ростом административного аппарата, который производит общественные блага. Эта «бюрократическая рента» растёт независимо от качества и количества предоставляемых государством услуг.
Закономерен либеральный по духу вывод, которые делает Д. Бьюкенен по проблеме разрастания государства. «В идеале эти институты могут быть только третейским судьей в социальной игре; на самом же деле они изменяют базовую структуру прав без согласия на то граждан, присвоив себе полномочия по переписыванию основного конституционного договора».
Развитие подобных идей в либеральной теории имеет большие перспективы. Это важно как с точки зрения науки, так и для политики. Можно надеяться, что концепция общественного договора будет и далее углубляться.
Однако, несколько позже М. Олсон, в принципе соглашаясь с выводами своего предшественника, указал, что этот вывод верен только при условии, что не существует никаких правил принятия решений, которые бы априорно ограничивали количество вариантов выбора так, чтобы они не приводили к насилию над человеком. Иными словами, люди закономерно выбирают диктатуру тогда, когда отсутствует изначальный общественный договор между ними. Этот договор тоже является принуждением, однако таким, которое одинаково для всех, и потому не является приватным насилием. Соглашение призвано организовать всех индивидов к совместным действиям, выгодным для каждого. Оно характеризует не только правила, устанавливаемые для общества в целом, но также правила спонтанно формирующихся ассоциаций и групп (профсоюзов, семей, клубов). Можно сказать, что люди на протяжении жизни постоянно заключают, перезаключают и пролонгируют множество общественых договоров, когда они вступают в члены какого-нибудь сообщества.
Встают вопросы, почему индивиды выберут некое самоограничение добровольно, почему заключается соглашение (а не сохраняется рассогласованность) и каково должно быть его содержание. Так возродился интерес к либеральной концепции общественного договора в рамках научного направления конституционной экономики, рассматривающей проблемы выбора конституции людьми, связанными хозяйственными отношениями труда, производства, обмена и т.д.
Основоположником этой дисциплины является Д. Бьюкенен (в тесном сотрудничестве с Г. Таллоком). При её конструировании он руководствуется несколькими методологическим предпосылками, сводящимися к принципу «методологического индивидуализма». Это попытка «свести все проблемы политической организации к проблеме выбора индивида между различными альтернативами. Его «логика выбора» становится предметом анализа, и нет необходимости рассматривать конечные цели индивида или критерии, которыми он руководствуется». В самом деле, слабым местом многих контракторианских теорий были необоснованные гипотезы о мотивах человека, которые казались то сугубо моральными, то грубо-эгоистическими, то импульсивными и неопределенными. Д. Бьюкенен элегантно выходит из сложившегося затруднения за счет абстрагирования от целей и побуждений индивидов, утверждая только, что каковы бы они ни были, они у каждого есть и он им максимально следует. Вырисовывается модель «экономического человека», утверждающая, что «люди в действительности стремятся максимизировать индивидуальные полезности, когда участвуют в процессе принятия политических решений, и что индивидуальные функции полезности различаются».
Эти индивиды в «естественном состоянии» могут то сотрудничать (когда их цели совпадают), то враждовать (когда функции полезности находятся в обратно-пропорциональной зависимости); это не столь важно. Проблема в том, что любое взаимодействие несет с собой издержки полезности (сотрудничество отнимает силы и время для того, чтобы договориться, а вражда может отнять и материальные блага). И вот, люди со множеством различных целей пожелают, думает Д. Бьюкенен, минимизировать издержки принятия решений и издержки столкновения интересов. Все сочтут нужным выбрать коллективный орган, который будет обеспечивать каждого теми благами, для получения которых надо было бы договариваться со множеством людей (напр., строительство маяка), а также будет сдерживать конфликтные устремления
Тем самым, люди согласятся ограничить себя с помощью государства, которому передадут очень определённые полномочия. Оно занимается тем, что нельзя сделать в одиночку (напр., вершить суд) и что требует значительных организационных затрат (напр., формирование армии и полиции). Общественный договор – это, по сути, конституция государства, где прописана сфера его деятельности.
Учение Д. Бьюкенена о конституции весьма оригинально. Конституционный выбор в его видении проходит две ступени:
На первой ступени («конституционная стадия») между людьми (вне зависимости от их числа и степени имущественного неравенства) заключается «соглашение о распределении прав, которое в себе несет дополнительное соглашение о том, что индивиды будут действовать не нарушая условий. Таким образом... стороны могут уменьшить свои личные усилия по захвату и защите». Образуется общество без государства, но уже с некоторой конституцией (которая поэтому логически предшествует государству). Заключив этот договор, индивиды скоро поймут, что вероятность его нарушений очень велика. Для защиты системы распределения прав и обязанностей организуется государство, третейский судья, призванный обеспечивать status quo, не допускать насильственного отъёма прав, блюсти добровольность и обязательность частных соглашений. Д. Бьюкенен называет такую модель «государством защищающим», руководствующимся принципом нейтральности по отношению ко всем заинтересованным сторонам. Это наименее обременительная, но наиболее общеполезная разновидность функционирования коллективного органа.
Вторая ступень общественного договора носит название «постконституционной». Гражданское общество тут продолжает наращивать индивидуальную полезность каждого индивида за счёт добровольных обменов благами или правомочиями. Государство же начинает интенсивно производить законы и расширять свои полномочия за счёт того, что индивиды передают в его ведении вопросы, которые сложно решить без централизованной организации. Нарождается «государство производящее», занимающееся производством общественных благ, число и ассортимент которых принципиально неограничены (от охраны границ до строительства систем канализации и осуществления цензуры печатных органов). Оно должно повышать индивидуальную полезность граждан. но это происходит не всегда.
Д. Бьюкенен разворачивает детализированную и искусную критику расширенного государства, появляющегося на постконституционной стадии. (1) Оно легко может покуситься на status quo, конституционный договор, лишив своих граждан возможности заключать контракты по своей воле (напр., поставляя блага на неконкурентной основе, как в случае госмонополий). Постконституционный договор заключается по принуждению, и гражданин не в праве выйти из него. 2) Государство производящее управляется не правилом единогласия (как государство защищающее, выгодное всем), а правилом большинства. В результате возникают коалиции, практикуется лоббизм частных интересов на государственном уровне, производство дискриминационных законов, а значит нарушение коституционного договора. 3) Возрастают издержки (налоги и ограничения в правах), связанные с ростом административного аппарата, который производит общественные блага. Эта «бюрократическая рента» растёт независимо от качества и количества предоставляемых государством услуг.
Закономерен либеральный по духу вывод, которые делает Д. Бьюкенен по проблеме разрастания государства. «В идеале эти институты могут быть только третейским судьей в социальной игре; на самом же деле они изменяют базовую структуру прав без согласия на то граждан, присвоив себе полномочия по переписыванию основного конституционного договора».
Развитие подобных идей в либеральной теории имеет большие перспективы. Это важно как с точки зрения науки, так и для политики. Можно надеяться, что концепция общественного договора будет и далее углубляться.
Д. Ролз и Р. Нозик
В 70-х годах ХХ века либеральная общественность проявила вторую волну интереса к концепциям общественного договора, что ознаменовалось выходом в свет двух знаковых философских трудов. Это «Теория справедливости» Д. Ролза и «Анархия, государство и утопия» Р. Нозика.
Д. Ролз выступил защитником общества с высокой степенью материальной защищенности населения, многочисленными гарантиями при расширенном государственном секторе, перераспределяющем средства. Он философски оправдал неолиберальную идеологию «государства всеобщего благосостояния», доминировавшую в Европе и США середины XX века.
Р. Нозик выстроил радикально противоположную социально-философскую доктрину. Он высветил концептуальные основы и ценности общества свободного предпринимательства, в котором люди обмениваются друг с другом благами на добровольных началах, без государственного принуждения, при этом полностью неся ответственность за свои поступки, свою собственность и своё будущее. Смелые суждения Р. Нозика возродили классический либерализм, который под именем либертарианства, вернулся к ортдокасальным позициям laissez-faire, свободы личности, ограниченного государства и неприкосновенности частной собственности.
Примечательно то, что и Д. Ролз и Р. Нозик ключевые свои аргументы черпают из собственных концепций общественного договора, благодаря чему эта тематика вновь возвращается в центр философских, политических, экономических и правовых дискусий.
Д. Ролз концентрирует внимание на проблеме справедливости, под которой понимается определённый способ распределения редких благ между людьми. Для него очевидно, что индивиды самостоятельно и без посредства особых социальных институтов не смогут достичь справедливого распределения. Поэтому, «главный субъект справедливости – базисная структура общества, или, более точно, способы, которыми основные социальные институты распределяют фундаментальные права и обязанности и определяют распределение преимуществ социальной кооперации. Под основными институтами я понимаю конституцию и основные экономические и социальные устройства». Общая теория справедливости – это нормативная модель устройства общества, дающая ключ к оцениванию и преобразованию существующих социальных структур.
Чтобы узнать, критерий справедливости, по мнению Д. Ролза, целесообразно рассмотреть то, как формируется сама социальность, которая в своих истоках должна заключать первичное и наилучшее правило распределения благ. «Основная идея здесь в том, что принципы справедливости для базисной структуры общества являются объектами исходного соглашения. Это такие принципы, которые свободные и рациональные индивиды, преследующие свои интересы, в исходном положении равенства примут в качестве определяющих фундаментальные соглашения по поводу своего объединения. Эти принципы должны регулировать все остальные соглашения; они специфицируют виды соиальной интеграции, которые могут возинкнуть, и формы правления, которые могут быть установлены».
Исходное положение равенства – это не реальная ситуация, а гипотетическая, но такая, из которой только и можно почерпнуть хотя бы какую-нибудь справедливость, если её связывают с принзанием самостоятельной ценности каждого человека. Справедливость может быть только между равными. Причем равенство присутствует не в смысле одинаковой собственности, а в смысле идентичности морального и правового статуса. Люди, вместе организующие общество, равны как стороны в диалоге и договоре, мнение каждого учитывается пропорционально мнению всех прочих. Отсюда ролзовское определение справедливости как честности, в котором постулируется то, «что принципы справедливости приняты в исходной ситуаци, которая честна».
Еще одно важное обстоятельство данной разновидности «естественного состояния» - это «завеса неведения», то есть отсутствие у кого бы то ни было знания о том, какое действительно положение он займет в будущем обществе. Отсюда стратегия всех индивидуумов – по возможности обезопасить в договоре каждого гражданина, поскольку в неблагоприятной ситуации может оказаться всякий.
Д. Ролз утверждает, что равные индивиды, учитывающие ограниченность своих знаний, выберут такие принципы справедливости, заключат договор о следующем. 1) «Каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее обширной схемы равных основных свобод, совместимых с подобными схемами свобод для других» . 2) «Социальные и экономические неравенства должны быть устроены так, чтобы (а) от них можно было бы разумно ожидать преимуществ для всех, и (б) доступ к положениям и должностям был бы открыт всем». Однако, дальше Д. Ролз интерпретеирует эти положения в том направлении, что неравенство должно служить наименее обеспеченным гражданам. Следовательно, надо ввести мощную государственную распределительную систему, высокие налоги, пособия, социальные гарантии и прочее.
Ответом на ролзовскую политическую философию стала альтернативная концепция общественного договора Р. Нозика. Исходное состояние человечества, анархия, вовсе не является ни равным, ни честным. Люди не обладают одинаковым объемом средств к существованию из-за различия физических способностей. Человека анархии также нельзя назвать честным, он не признает равенства морального статуса других лиц потому, что ни у кого вообще нет никакого статуса (если имеются каки-либо моральные мотивы – это уже общественное состояние). Однако, между индивидами вполне возможны спорадические обмены благами и услугами (напр., сожительство мужчины и женщины).
По Р. Нозику, нельзя мыслить общественый договор как моментальный скачок из анархии в цивилизованное состояние или как событие. Социальность и государственность формируются параллельно, постепенно и словно непреднамеренно. Отдельные индивиды (допустим два или три) условливаются о совместной защите или согласовании действий, а далее к их отношениям присоединяются другие люди и другие ассоциации. Так появляется «минимальное государство» - один человек или коллектив, которому более широкая группа людей поручила функцию охраны мирных отношений. Оно не есть продукт чьего-то замысла, но незапланированный результат множественных, разнородных по целям, взаимодействий. «Эгоистические и рациональные действия индивидов... безо всякого сознательного стремления к тому, будут приводить к возникновению охранных агентств, каждое из которых будет доминировать на какой-то географической территории».
Главная и единственная задача минимального государства - функция «защиты от насилия, мошенничества, воровства, обеспечение соблюдения договоров». Такое государство гарантирует запрет на агрессию одних индивидов против других и ничего больше. Только оно морально оправданно и справедливо. Минимальное государство не должно использовать аппарат принуждения, чтобы заставить одних граждан помогать другим. Оно не должно запрещать какие-либо виды действий людей. Такое государство не может контролировать то, что люди едят и пьют, что они публикуют и читают, не может создавать программы социального страхования или всеобщего образования, не может регулировать экономику.
И либертарианская, и неолиберальная версии общественного договора равно достойны внимания, но обе провоцируют на выдвижение острых претензий, поскольку вводят слишком много скрытых аксиом и ценностей, которые предопределяют то или иное решение проблемы. Попытка построения контракторианства на прозрачных концептуальных основаниях в наше время совершается в рамках таких новых пограничных научных дисциплин как конституционная экономика и теория выбора (демократии).
Д. Ролз выступил защитником общества с высокой степенью материальной защищенности населения, многочисленными гарантиями при расширенном государственном секторе, перераспределяющем средства. Он философски оправдал неолиберальную идеологию «государства всеобщего благосостояния», доминировавшую в Европе и США середины XX века.
Р. Нозик выстроил радикально противоположную социально-философскую доктрину. Он высветил концептуальные основы и ценности общества свободного предпринимательства, в котором люди обмениваются друг с другом благами на добровольных началах, без государственного принуждения, при этом полностью неся ответственность за свои поступки, свою собственность и своё будущее. Смелые суждения Р. Нозика возродили классический либерализм, который под именем либертарианства, вернулся к ортдокасальным позициям laissez-faire, свободы личности, ограниченного государства и неприкосновенности частной собственности.
Примечательно то, что и Д. Ролз и Р. Нозик ключевые свои аргументы черпают из собственных концепций общественного договора, благодаря чему эта тематика вновь возвращается в центр философских, политических, экономических и правовых дискусий.
Д. Ролз концентрирует внимание на проблеме справедливости, под которой понимается определённый способ распределения редких благ между людьми. Для него очевидно, что индивиды самостоятельно и без посредства особых социальных институтов не смогут достичь справедливого распределения. Поэтому, «главный субъект справедливости – базисная структура общества, или, более точно, способы, которыми основные социальные институты распределяют фундаментальные права и обязанности и определяют распределение преимуществ социальной кооперации. Под основными институтами я понимаю конституцию и основные экономические и социальные устройства». Общая теория справедливости – это нормативная модель устройства общества, дающая ключ к оцениванию и преобразованию существующих социальных структур.
Чтобы узнать, критерий справедливости, по мнению Д. Ролза, целесообразно рассмотреть то, как формируется сама социальность, которая в своих истоках должна заключать первичное и наилучшее правило распределения благ. «Основная идея здесь в том, что принципы справедливости для базисной структуры общества являются объектами исходного соглашения. Это такие принципы, которые свободные и рациональные индивиды, преследующие свои интересы, в исходном положении равенства примут в качестве определяющих фундаментальные соглашения по поводу своего объединения. Эти принципы должны регулировать все остальные соглашения; они специфицируют виды соиальной интеграции, которые могут возинкнуть, и формы правления, которые могут быть установлены».
Исходное положение равенства – это не реальная ситуация, а гипотетическая, но такая, из которой только и можно почерпнуть хотя бы какую-нибудь справедливость, если её связывают с принзанием самостоятельной ценности каждого человека. Справедливость может быть только между равными. Причем равенство присутствует не в смысле одинаковой собственности, а в смысле идентичности морального и правового статуса. Люди, вместе организующие общество, равны как стороны в диалоге и договоре, мнение каждого учитывается пропорционально мнению всех прочих. Отсюда ролзовское определение справедливости как честности, в котором постулируется то, «что принципы справедливости приняты в исходной ситуаци, которая честна».
Еще одно важное обстоятельство данной разновидности «естественного состояния» - это «завеса неведения», то есть отсутствие у кого бы то ни было знания о том, какое действительно положение он займет в будущем обществе. Отсюда стратегия всех индивидуумов – по возможности обезопасить в договоре каждого гражданина, поскольку в неблагоприятной ситуации может оказаться всякий.
Д. Ролз утверждает, что равные индивиды, учитывающие ограниченность своих знаний, выберут такие принципы справедливости, заключат договор о следующем. 1) «Каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее обширной схемы равных основных свобод, совместимых с подобными схемами свобод для других» . 2) «Социальные и экономические неравенства должны быть устроены так, чтобы (а) от них можно было бы разумно ожидать преимуществ для всех, и (б) доступ к положениям и должностям был бы открыт всем». Однако, дальше Д. Ролз интерпретеирует эти положения в том направлении, что неравенство должно служить наименее обеспеченным гражданам. Следовательно, надо ввести мощную государственную распределительную систему, высокие налоги, пособия, социальные гарантии и прочее.
Ответом на ролзовскую политическую философию стала альтернативная концепция общественного договора Р. Нозика. Исходное состояние человечества, анархия, вовсе не является ни равным, ни честным. Люди не обладают одинаковым объемом средств к существованию из-за различия физических способностей. Человека анархии также нельзя назвать честным, он не признает равенства морального статуса других лиц потому, что ни у кого вообще нет никакого статуса (если имеются каки-либо моральные мотивы – это уже общественное состояние). Однако, между индивидами вполне возможны спорадические обмены благами и услугами (напр., сожительство мужчины и женщины).
По Р. Нозику, нельзя мыслить общественый договор как моментальный скачок из анархии в цивилизованное состояние или как событие. Социальность и государственность формируются параллельно, постепенно и словно непреднамеренно. Отдельные индивиды (допустим два или три) условливаются о совместной защите или согласовании действий, а далее к их отношениям присоединяются другие люди и другие ассоциации. Так появляется «минимальное государство» - один человек или коллектив, которому более широкая группа людей поручила функцию охраны мирных отношений. Оно не есть продукт чьего-то замысла, но незапланированный результат множественных, разнородных по целям, взаимодействий. «Эгоистические и рациональные действия индивидов... безо всякого сознательного стремления к тому, будут приводить к возникновению охранных агентств, каждое из которых будет доминировать на какой-то географической территории».
Главная и единственная задача минимального государства - функция «защиты от насилия, мошенничества, воровства, обеспечение соблюдения договоров». Такое государство гарантирует запрет на агрессию одних индивидов против других и ничего больше. Только оно морально оправданно и справедливо. Минимальное государство не должно использовать аппарат принуждения, чтобы заставить одних граждан помогать другим. Оно не должно запрещать какие-либо виды действий людей. Такое государство не может контролировать то, что люди едят и пьют, что они публикуют и читают, не может создавать программы социального страхования или всеобщего образования, не может регулировать экономику.
И либертарианская, и неолиберальная версии общественного договора равно достойны внимания, но обе провоцируют на выдвижение острых претензий, поскольку вводят слишком много скрытых аксиом и ценностей, которые предопределяют то или иное решение проблемы. Попытка построения контракторианства на прозрачных концептуальных основаниях в наше время совершается в рамках таких новых пограничных научных дисциплин как конституционная экономика и теория выбора (демократии).
Представления об общественном договоре в России
Теория общественного договора А.Н. Радищева
В России представителем договорной теории был революционный демократ А. Н. Радищев, который утверждал, что государственная власть принадлежит народу, передана им монарху, и должна находиться под контролем народа.
Люди же, входя в государство, лишь ограничивают, а вовсе не теряют свою естественную свободу. Отсюда он и выводил право народа на восстание и революционное ниспровержение монарха, если тот допускает злоупотребление властью и произвол. Термин «самодержавие» Радищев употребляет только в смысле сосредоточения неограниченной власти в руках монарха.
Радищев рассматривает самодержавие как состояние, «наипротивнейшее человеческому естеству». В отличие от Монтескье, различавшего просвещенную монархию и деспотию, Радищев ставил знак равенства между всеми вариантами монархической организации власти. Царь, утверждал он, «первейший - в обществе убийца, первейший разбойник, первейший предатель». Он не верил в возможность появления на троне просвещенного монарха. Свою позитивную схему Радищев конструирует, основываясь на исходных положениях теории естественных прав человека.
Причиной образования государства, по мнению Радищева, является природная социальность людей. В естественном состоянии все люди были равны, но с появлением частной собственности это равенство нарушилось. Государство возникло как результат молчаливого договора в целях обеспечения всем людям благой жизни, а также защиты слабых и угнетенных. При заключении договора народ является определяющей стороной и оставляет суверенитет за собой.
Он не мог бы согласиться на рабство, так как это было бы противоестественно. Положительное законодательство, издаваемое государством, должно быть основано на естественном праве. В том случае, «если закон не имеет основания в естественном праве», он как закон не существует (не действителен), так как основанием права является справедливость, а не сила». С этих позиций Радищев критикует современное ему крепостное право и показывает его теоретическую и практическую несостоятельность.
Крепостное право, по его оценке, представляет собой нарушение естественных законов, кроме того, оно и экономически несостоятельно, так как подневольный труд непроизводителен. С ним связано и нравственное падение народа, причем как крепостников (бесчеловечие, жестокость, бессердечие и т.п.), так и крепостных (унижение, порабощение, разорение). Россия богата, но ее труженики лишены всего необходимого, и такое состояние является безнравственным. Радищев обращает внимание на отсутствие в законах юридического статуса крепостного крестьянина. «Крестьянин в законе мертв», но по естественному праву он остается свободным человеком, имеющим право на счастье и самозащиту.
Противопоставление естественного права существующим государственным законам привело Радищева к революционным выводам. «Из мучительства неминуемо рождается вольность,– предрекал он,– а мучительство достигло в России крайнего предела». Свободы следует ожидать не от «добрых помещиков», а от непомерной тяжести порабощения, которая вынуждает народ искать пути своего освобождения.
Тем самым Радищев признает за народом право на восстание в том случае, если его естественные права грубо нарушаются. Социальный идеал Радищева – общество свободных и равноправных собственников. «Собственность – один из предметов, который человек имел в виду, вступая в общество». Межа, отделяющая владение одного гражданина от другого, должна быть «глубока, всеми зрима и свято почитаема», но крупную феодальную собственность он рассматривал как результат грабежа и насилия.
Земля должна быть передана безвозмездно тем, кто ее обрабатывает. В обществе Радищева социальные привилегии отменяются, дворянство уравнивается в правах со всеми остальными сословиями. Наилучшей политической организацией такого общества является народное правление, сформированное по образу северно-русских феодальных республик Новгорода и Пскова: по мнению Радищева, народ России исстари привержен республиканской форме правления.
Концепцию разделения властей он не признает, ибо только народ может быть истинным Государем. Народ избирает магистратов, сосредоточивая всю полноту власти у себя. Будущее государственное устройство России Радищев представлял в форме свободной и добровольной федерации городов с вечевыми собраниями, со столицей в Нижнем Новгороде. Социальные и политико-правовые идеалы А. Н. Радищева были восприняты русской политической мыслью и получили дальнейшее развитие в трудах декабристов, а затем и в революционно-демократической теории последующих лет. На современников его труды произвели огромное впечатление.
Его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» называли набатом революции, и она была запрещена в России до 1917 г. За оду «Вольность» и «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев был судим и приговорен к смертной казни, которая была заменена десятилетней ссылкой в Усть-Илимск. Радищев осуждал революционный террор, считал, что наиболее радикальные воплощения «вольности», рожденной в эпоху французской революции 1791 г чреваты новым «рабством»
Люди же, входя в государство, лишь ограничивают, а вовсе не теряют свою естественную свободу. Отсюда он и выводил право народа на восстание и революционное ниспровержение монарха, если тот допускает злоупотребление властью и произвол. Термин «самодержавие» Радищев употребляет только в смысле сосредоточения неограниченной власти в руках монарха.
Радищев рассматривает самодержавие как состояние, «наипротивнейшее человеческому естеству». В отличие от Монтескье, различавшего просвещенную монархию и деспотию, Радищев ставил знак равенства между всеми вариантами монархической организации власти. Царь, утверждал он, «первейший - в обществе убийца, первейший разбойник, первейший предатель». Он не верил в возможность появления на троне просвещенного монарха. Свою позитивную схему Радищев конструирует, основываясь на исходных положениях теории естественных прав человека.
Причиной образования государства, по мнению Радищева, является природная социальность людей. В естественном состоянии все люди были равны, но с появлением частной собственности это равенство нарушилось. Государство возникло как результат молчаливого договора в целях обеспечения всем людям благой жизни, а также защиты слабых и угнетенных. При заключении договора народ является определяющей стороной и оставляет суверенитет за собой.
Он не мог бы согласиться на рабство, так как это было бы противоестественно. Положительное законодательство, издаваемое государством, должно быть основано на естественном праве. В том случае, «если закон не имеет основания в естественном праве», он как закон не существует (не действителен), так как основанием права является справедливость, а не сила». С этих позиций Радищев критикует современное ему крепостное право и показывает его теоретическую и практическую несостоятельность.
Крепостное право, по его оценке, представляет собой нарушение естественных законов, кроме того, оно и экономически несостоятельно, так как подневольный труд непроизводителен. С ним связано и нравственное падение народа, причем как крепостников (бесчеловечие, жестокость, бессердечие и т.п.), так и крепостных (унижение, порабощение, разорение). Россия богата, но ее труженики лишены всего необходимого, и такое состояние является безнравственным. Радищев обращает внимание на отсутствие в законах юридического статуса крепостного крестьянина. «Крестьянин в законе мертв», но по естественному праву он остается свободным человеком, имеющим право на счастье и самозащиту.
Противопоставление естественного права существующим государственным законам привело Радищева к революционным выводам. «Из мучительства неминуемо рождается вольность,– предрекал он,– а мучительство достигло в России крайнего предела». Свободы следует ожидать не от «добрых помещиков», а от непомерной тяжести порабощения, которая вынуждает народ искать пути своего освобождения.
Тем самым Радищев признает за народом право на восстание в том случае, если его естественные права грубо нарушаются. Социальный идеал Радищева – общество свободных и равноправных собственников. «Собственность – один из предметов, который человек имел в виду, вступая в общество». Межа, отделяющая владение одного гражданина от другого, должна быть «глубока, всеми зрима и свято почитаема», но крупную феодальную собственность он рассматривал как результат грабежа и насилия.
Земля должна быть передана безвозмездно тем, кто ее обрабатывает. В обществе Радищева социальные привилегии отменяются, дворянство уравнивается в правах со всеми остальными сословиями. Наилучшей политической организацией такого общества является народное правление, сформированное по образу северно-русских феодальных республик Новгорода и Пскова: по мнению Радищева, народ России исстари привержен республиканской форме правления.
Концепцию разделения властей он не признает, ибо только народ может быть истинным Государем. Народ избирает магистратов, сосредоточивая всю полноту власти у себя. Будущее государственное устройство России Радищев представлял в форме свободной и добровольной федерации городов с вечевыми собраниями, со столицей в Нижнем Новгороде. Социальные и политико-правовые идеалы А. Н. Радищева были восприняты русской политической мыслью и получили дальнейшее развитие в трудах декабристов, а затем и в революционно-демократической теории последующих лет. На современников его труды произвели огромное впечатление.
Его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» называли набатом революции, и она была запрещена в России до 1917 г. За оду «Вольность» и «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев был судим и приговорен к смертной казни, которая была заменена десятилетней ссылкой в Усть-Илимск. Радищев осуждал революционный террор, считал, что наиболее радикальные воплощения «вольности», рожденной в эпоху французской революции 1791 г чреваты новым «рабством»
Надеюсь, проект смог вам помочь
Данный проект задумывался как открытый сборник материалов для тех, ищет материалы о концепциях общественного договора для доклада, публикации или иной научной работы, или же просто хочет побольше узнать об общественном договоре
Все материалы, идеи и способы их подачи принадлежат их правообладателям.
Все материалы, идеи и способы их подачи принадлежат их правообладателям.
